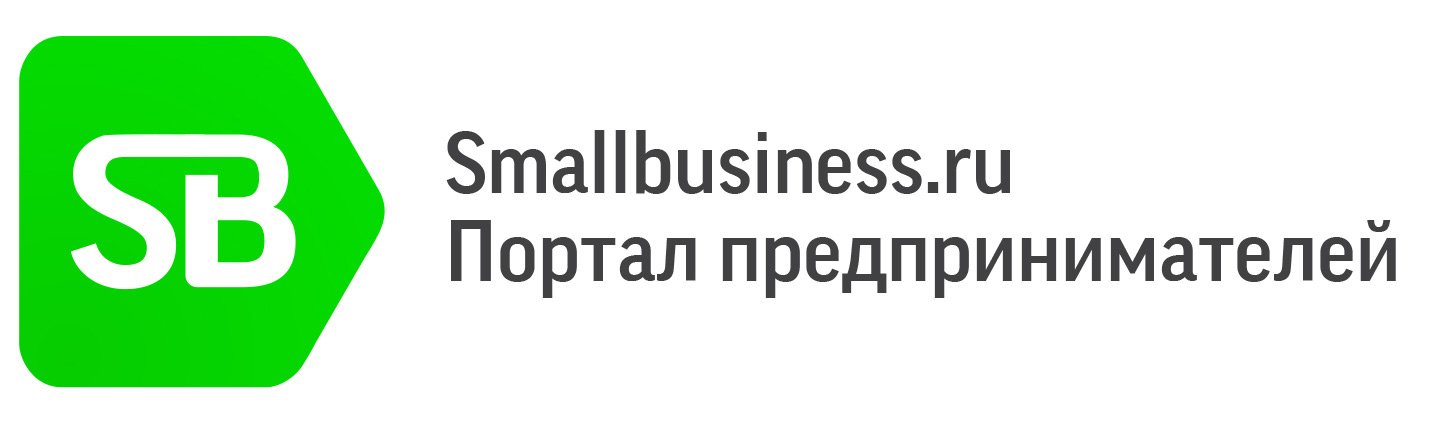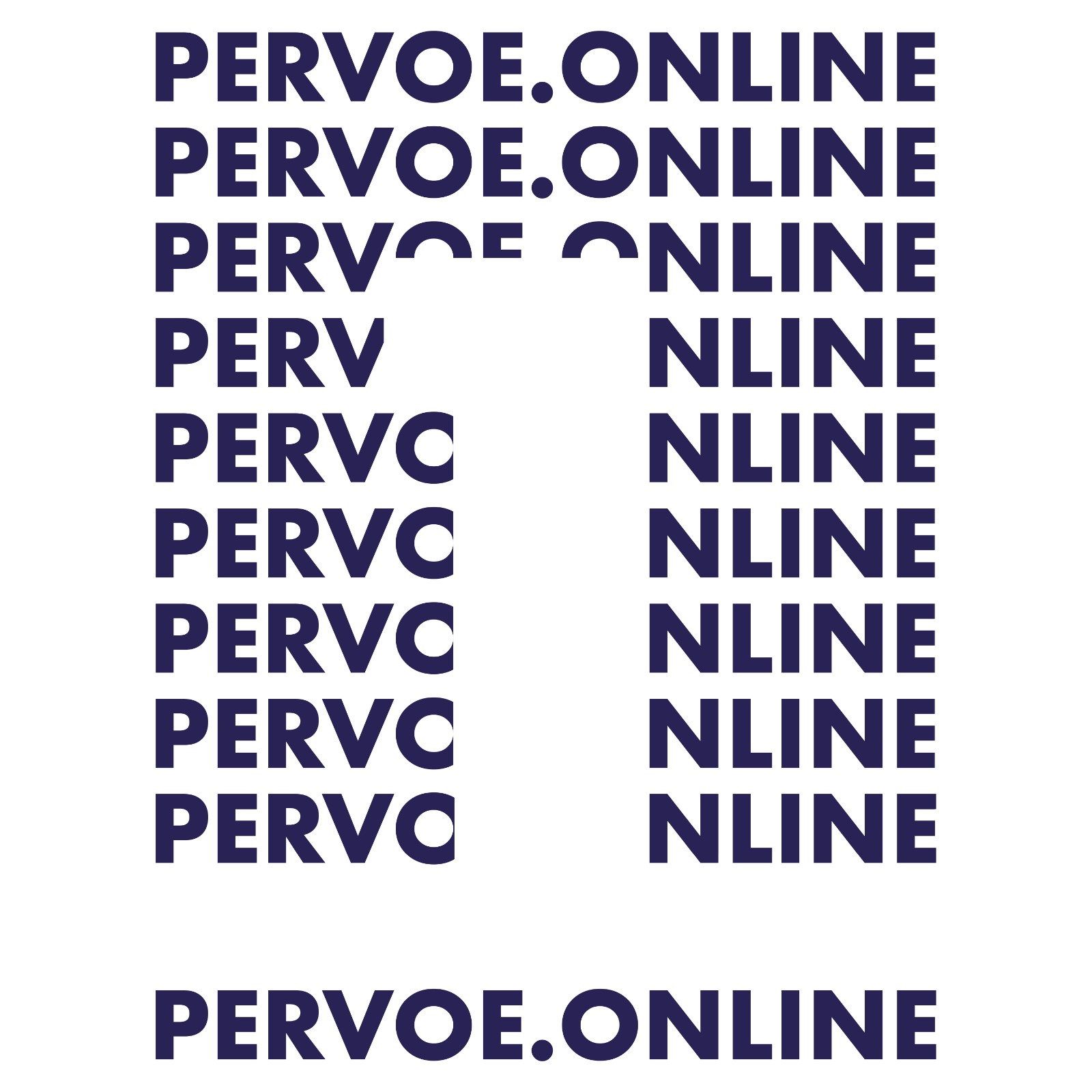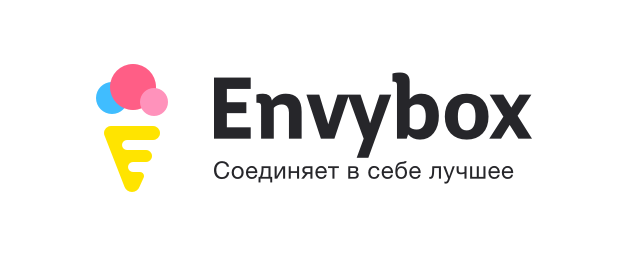Балтийское море против Белого. История принуждения

Юрий Крижанич, хорватский богослов, писатель, историк и энциклопедист, писал о Руси в середине XVII века: "Сие преславное господарство, будуч тако широко и безмерно долго, однакожь от всех стран есть заперто в торгованию. <...> нам остают токмо три от страхов слободна торговища: по суху Новгород и Псков, а на воде Архангельское пристание <...> али к тому путь есть несмерно предалек и трудовен".
Великий Петр поставил себе задачу - надо искать новых торжищ, новый более удобный путь, чем архангельский, нужен незамерзающий выход к морю. Начав с южных морей, через некоторое время он все-таки обратил свои взоры на север. Еще в 1655 году, в царствование Алексея Михайловича, русский купец Петр Николаев в беседе со шведскими послами о перенесении торговли с Белого моря на Балтийское заявлял, что это легко можно было бы сделать, если бы Карл X уступил царю Ингерманландию, которая королю, дескать, приносит мало пользы, а царь за это отказался бы от своих притязаний на Литву. Конечно, шведы на это не пошли, напротив, по словам русских, на Балтийском море "шведский король всякими мерами промышляет, чтобы <...> в торговых промыслах всем большое утеснение сделать".
Только завоевание Петром I берегов Балтийского моря и основание нового порта — Петербурга положило конец этому состоянию и явилось исходной точкой для нового периода в истории русской торговли. Чулков в своем "Историческом описании российской коммерции при всех портах и границах" писал: "При самом начале сего благополучного порта как будто неким проявлением приведен был голландской купеческой корабль в 1703 году осенью, дабы возвратясь возвестил оной Европе, что имел щастие быть при новоначинающемся порте, которой в глазах неприятельских, против всех чаяния, а некоторые желания, основывается, увеличивается и привлечет всю северо-западную коммерцию". Собственно, что и случилось вскоре.
В Санкт-Петербургских ведомостях того года писали, что нечаянно зашло в устье Невы направлявшееся в Ниеншанц (шведский город и защищающая его крепость располагались при впадении реки Охта в Неву на обоих её берегах, ныне территория Санкт-Петербурга) нидерландское судно с вином и солью. Капитан был приглашен к столу Меньшиковым, и ему выдано было 500 золотых червонцев, а матросам по 300 ефимков каждому и обещано при всяком новом приезде капитану по 100 рублей, а в то же время объявлено, что капитан следующего судна получит 300, а третьего 150 дукат, и соответствующее вознаграждение будет выдано и матросам. Капитан назвал свой корабль "Город С.-Петербург" и совершал регулярные рейсы во вновь открытый им порт.
После занятия Дерпта, Нарвы, Ивангорода Россия могла считать себя имеющей все права на южное побережье Финского залива. В соответствии с этим Петр устроил верфь и адмиралтейство и через посольства объявил иностранным государствам о новой русской гавани.
Однако оповещений, постройки кронштадтской гавани и гостиного двора на Петербургской стороне было еще недостаточно для того, чтобы сделать Петербург "великим купеческим магазином". Вследствие затруднительности провоза цены в Петербурге были значительно выше, чем в Архангельске, куда можно было ехать по Двине водным путем, да и купцы русские освоились давно с Архангельском, где рынок был больше, и товары разнообразнее, и сбыт вернее, и не желали менять его на новый, им еще неизвестный порт.
Трудности пути Петр старался устранить путем соединения Волги с Невой, но эти планы первоначально не привели ни к каким результатам. А с привычками купцов Петр боролся обычным своим решительным методом — принуждением.
Чулков в своем фундаментальном произведении писал, что поскольку "начатие сей торговли было дело новое и российское купечество вникнуть в оную ни времени, ни случая не имело <...> поэтому попечитель об отечестве" не мог рассчитывать на то, чтобы "российские купцы охотно в сию торговлю вступили, того ради принужденным находился он для их же собственной пользы, употребить некоторое принуждение, которое публиковано было имянным его указом".
Велено было из ближних к Петербургу городов к будущей весне товары везти в Петербург, но не в Архангельск "под потерянием своих пожитков", а юфть и пеньку везти в Петербург и из дальних городов; указ этот приказано было объявить по всем городам в церквах и прибить к городским воротам.
Указ от 31 октября 1713 года. "Именный, объявленный из Сената - О воспрещении возить на продажу к городу Архангельску пеньку и юфть и о привозе оных в Санктпетербург. Великий Государь указал объявить всенародно, чтоб купецкие и других чинов люди, у кого есть пенька и юфть, к городу Архангельскому и на Вологду для торговли не возили, а привозили бы в С. Петербург; так же которые Государевы товары, икру, клей, поташ, смолу, щетину, ревень к городу не отпускать, а привозить по тому ж в С. Петербург, а хлеб как Государев, так и купецким людям для торгу возить в С. Петербург и к городу Архангельскому, из которых городов куда способнее, невозбранно".
По велению Петра в Санкт - Петербург переселены были самые именитые купцы Архангельска. Указ от 20 ноября 1717 года. "Именный, объявленный из Сената - О высылки из Губерний на жительство в Санктпетербург купцов и ремесленников добрых и зажиточных. Великий Государь указал: купецких и ремесленных людей <...> ныне выбрав, выслать их с женами и детьми в Санктпетербург бессрочно, а выбрать их в городах Земским Бурмистрам и выборным людям меж собою самим, как из первостатейных, так и средних людей добрых и пожиточных, которые б имели у себя торги и промыслы, или заводы какие свободные, а не убогие были б, не малосемейные, и тот выбор учинить им без всякого послабления, не обходя и не норовя никому ни для чего <...> ". Всякие попытки обойти закон пресекались указом: "<...> в высылке какое вымышленное продолжение чиниться от них будет, и за то те выборные (яко клятвопреступники и преслушники указа,) с разорением домов и всего имения их, жестоко наказаны будут". Указ предписывал "некондиционных" переселенцев заменить другими: " <...> а которые купецкие и ремесленные люди из губерний в Санкт-Петербург на житье высланы и против челобитья их, по розыскам, явились одни из них старые, а другие – скудные и одинокие, а первостатейные обойдены, и вместо тех выбрав иных – добрых, по тому ж выслать в Санкт-Петербург немедленно".
Принудительное переселение Петр практиковал и в отношении других слоев населения. Но для купечества переселение было особенно болезненным, разорительным делом: торговля опиралась на связи, деловые отношения, каждый торговый дом имел свой профиль и район торговли. С переселением эти связи рвались, конъюнктура торговой деятельности на новом месте менялась в худшую сторону.
В 1714 году Петр разрешил везти в Петербург всего половину товаров. 15 марта вышла "Высочайшая резолюция на доношение Русских и иностранных купцов. - О позволении купцам, по причине военного времени, товары везти к Архангельскому порту. <...> Сего году пеньку, которая со Твери и от Твери к Москве, то и воля хотя сюда или ко городу весть. Юфти четвертую долю сюда, а прочее к городу. А впредь (для сей войны), а именно к 1715 году всех товаров половина сюда, а другая к городу". В 1717 году было снова приказано доставить в Санкт - Петербург две трети и только одну треть Архангельск.
Жесткие принудительные меры, призванные поднять значение порта Санкт- Петербурга в ущерб городу Архангельску, была достигнута скорее, чем Петр мог ожидать. Уже в 1718 году те самые купцы из Новгорода и Пскова, которых пять лет тому назад приходилось силой заставлять направлять часть товаров в петербургский порт, обратились теперь за разрешением везти туда товар полностью. В 1719 году обязательная доставка товаров в Петербург была понижена до одной трети, остальное всякий мог везти куда угодно. А в 1727 году было отменено всякое стеснение архангельской торговли — туда можно было возить сколько угодно товаров.
Но это уже мало помогало делу — торговля Петербурга растет, торговля архангельская падает. Вот некоторые данные. Число посещавших петербургский порт кораблей из года в год возрастало: так если в 1713 году это был только один корабль, то в 1718 году их уже 54, а в 1724, например, 180. Число входивших в гавань Архангельска иностранных кораблей составляло в 1711-1715 годах в среднем 154, в 1716-1720 их было 142, тогда как в 1721 — 1725 годах всего 50, а в 1726 — 1730 даже 34. Таможенные сборы, портовые и внутренние, резко снизились до 30 тысяч рублей в год, тогда как до принудительных мер Петра они составляли в среднем ежегодно 218 тыс. рублей.
Учреждение торговли в Петербурге, привело в такой упадок архангельскую, что
В Архангельск, кроме "дерева в деле, да еще дегтя, ворвани и прочего, которые добываются на берегах Белого моря и Двины и по их тяжести не перевозятся в Петербург", не привозится никаких других не только иностранных, но и русских товаров. И никакие меры уже не могли помочь Архангельску, не в силах были возродить его. А к середине XVIII века Петербург благодаря вновь построенным каналам, соединявшим его с внутренними губерниями, стал наиболее удобной гаванью для вывоза русских товаров, хотя и замерзавшей, но в течение гораздо меньшего срока, чем архангельский порт, и значительно ближе расположенной к Западной Европе.
Источники:
1. Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание первое : С 1649 по 12 декабря 1825 года. - СПб. : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830.
2. Кулишер Иосиф Михайлович. Очерк истории русской промышленности. - Петроград: Тип. К.-О. Петрогубпрофсовета, 1922.
3. Чулков Михаил Дмитриевич. Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах от древних времен до Нынешнего. Том IV. Книга I - М.: Университетская тип. (Н. Новиков), 1785